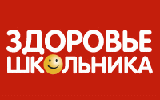Ольгинский детский приют трудолюбия
 - детская коммуна
- детская коммуна
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОЛЬГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ ТРУДОЛЮБИЯ, СОСТОЯЩИЙ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ (В ЦАРСКОЙ СЛАВЯНКЕ)
10 ноября 1895 император Николай II в ознаменование рождения дочери великой княжны Ольги Николаевны повелел учредить на собственные средства в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга особое убежище для призрения детей обоего пола, остающихся в столице без призора и пристанища. Созданное учреждение, получившее наименование Петербургский Ольгинский детский приют трудолюбия, состоящий под непосредственным Его Императорского Величества покровительством, было передано в ведение Попечительства о домах трудолюбия и работных домах (с 1906 года – Попечительство о трудовой помощи).
Этот приют должен был послужить образцом для устройства и развития подобных учреждений в империи, и для них был разработан типовой устав. Дети принимались в приюты без различия вероисповедания, сословия или звания, но способные к работе по состоянию здоровья. Их обучали Закону Божию и грамоте, земледельческим, преимущественно огородным работам и несложным ремеслам.
ремеслам.
Первый из Ольгинских детских приютов трудолюбия возник около мызы Царская Славянка, ныне посёлок Динамо. Учрежден по высочайше утвержденному 31 января 1896 года положению. Был рассчитан на 200 призреваемых обоего пола, в возрасте от 6 лет до 15 лет для мальчиков и 16 лет для девочек. Содержался на суммы, отпускаемые императором по ежегодно утверждаемой смете. Для надзора и руководства делами приюта учреждался Совет из председателя, утверждаемого в должности на три года императором, и четырех членов, который действовал под наблюдением Попечительства о домах трудолюбия и работных домах (с 1906 года – Попечительства о трудовой помощи).
В сентябре 1896 года Главное управление уделов отвело под приют около 60 гектар земли около мызы Царская Славянка, близ Павловска. Здесь по проектам гражданских инженеров М. Ф. Гейслера и Б. Ф. Гуслистого было построено 11 деревянных зданий – главное здание (для церкви, квартиры священника, общей столовой, канцелярии и комнаты Совета), центральная кухня, дом для мастерских и служащих, дом для девочек и малолетних, три дома для мальчиков на 20 человек каждый, слесарня и кузница, молочная, скотный двор, баня с прачечной и машинное отделение. Большинство зданий было одноэтажными, жилые корпуса украшали резные карнизы и наличники, фасады главного здания были выполнены в русском стиле, церковь – полностью обшита деревом, в окна вставлены цветные стекла.
Приют открылся 3 ноября 1897 года в присутствии императорской четы и членов императорской фамилии.
фамилии.
В первый год в нем находилось 15 девочек и 99 мальчиков. В дальнейшем в приюте получали призрение 240–280 детей в год: 130–140 мальчиков и 60–70 девочек. Дети обучались в мастерских ремеслам: мальчики – слесарно-кузнечному, столярно-токарному, переплетному, шорному и сапожному; девочки – кройке и шитью (обшивая бельем всех призреваемых в приюте), а также вышиванию гладью, стирке и глажке белья. Призреваемые по установленному дежурству убирали комнаты, помогали на кухне и исполняли все домашние работы; летом принимали участие в земледельческих работах в огороде, в саду и в поле. На содержание приюта из Собственной Его Величества Канцелярии отпускалось около 54 000 руб. ежегодно; к этому добавлялась прибыль от сельского хозяйства (в 1913 приход составил 17 315 руб. при расходе в 14 147 руб.) и от продукции мастерских (в 1913 приход составил 2 041 руб. при расходе в 1 144 руб.).
В 1911 году приют участвовал в Царскосельской юбилейной выставке, продемонстрировав изделия воспитанников, а также выращенные продукты сельского хозяйства. За выставленную коллекцию огородных овощей приюту была присуждена малая золотая медаль. Выстроенный для выставки павильон был перевезен в приют и предназначен для устройства в нем музея приюта.
Председателями Совета приюта были последовательно гофмейстер бар. Б. Э. Вольф, бар. Н. А. Витте, гофмейстер В. И. Вуич, заведующими – Ф. Г. Подоба, И. П. Комлев, И. А. Крюков, с.с. И. М. Травчетов и В. Ф. Суханов.
Литература:
1. Гейслер М. Ф. Постройка зданий С.-Петербургского Ольгинского детского приюта трудолюбия 1897–1898 г. СПб., 1900;
2. Отчет о деятельности С.-Петербургского Ольгинского детского приюта трудолюбия в 1897–1898 годах с исторической точки зрения Ф. Г. Подобы. Тифлис, 1900;
3. Ольгинские детские приюты трудолюбия. 1895–1910 гг. СПб., 1911.
А. Н. Андреева
 Анциферов Н.П. - Из дум о былом:
Анциферов Н.П. - Из дум о былом:
«К. А. Половцева (родственница Кропоткина, наша знакомая по кружку А. А. Мейера) пригласила Таню к себе в Красную Славянку в помощницы заведованием интернатом.
Красная, бывшая Царская, Славянка находилась на холме за Павловском, в имении графини Самойловой, известной красавицы екатерининских времен, изображенной с девочкой-турчанкой на картине Карла Брюллова. В её дворце классического стиля сохранился зал в помпеянском стиле, а в башне была масонская ложа.
В большом зале устраивались лекции для жителей колонии. На краю парка высилась церковь, шпиль которой был виден издалека.
издалека.
Колония состояла из ряда интернатов, помещавшихся в особых деревянных домиках. В центре ее — большое здание из красного кирпича. Колония состояла из детей всех возрастов, кончая подростками лет семнадцати. Это были в большинстве дети беспризорные, сироты: мальчики и девочки. Их обучали по весьма вольным, «самодеятельным» программам средней школы 1-й ступени и различным ремеслам. Дисциплина была слабая, и Тане пришлось с трудом справляться с распущенными девочками лет 14—16. Во главе колонии стояла А. И. Вукотич — партийная женщина, властная, с инициативой, с выдумкой. Так, мне был поручен курс «мифы древности». Читались и отдельные лекции. Я пригласил моих товарищей по Тенишевскому училищу: очень талантливых молодых ученых Ю. А. Никольского и Ю. Н. Тынянова читать лекции для учителей.
Я приезжал в Славянку по субботам и в тот же вечер проводил занятия с ребятами. Уезжал рано утром в понедельник.
Осенью возобновилось наступление Юденича. Это наступление началось еще весной. Тревожные дни переживал город. Были установлены ночные дежурства. Помню одну ночь, когда я сидел на подъезде со свечой в бутылке и читал «Сверчок на печи». У меня тогда еще был дом. Я охранял своих детей. Тогда и у меня жил сверчок на печи. Дома было тепло сердцу, словно там пылал камин. Но градусник показывал еще низкую температуру. Теперь, осенью, он показывал нормальную температуру, комнатную, а дома мне стало холодно. Тогда наступление было быстро задержано. Теперь белые наступали неудержимо и приближались к Гатчине. Славянку могли отрезать от Петрограда. Что делать? Беспомощную старушку-мать я не должен был оставлять одну. Я решил поехать в Славянку, повидать Таню перед наступающими событиями и вернуться к маме. Духом крепкая Таня в хорошем коллективе легче переживет трудные дни. И я выехал с тоской.
хорошем коллективе легче переживет трудные дни. И я выехал с тоской.
Уже в Царском Селе на вокзале ощущалась тревога. Поезд до Павловска был почти пуст, с волнением я шел в Славянку. С холма спускались всадники. Кто? Я сошел с дороги: определить было трудно. С холма доносился благовест. Я зашел в церковь. Прослушал молитву: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою... Жертва вечерняя». Таню застал с рожистым воспалением ноги. Стало еще тревожнее за нее. Еще мучительнее вопрос, как быть. Она, мужественная как всегда, твердо сказала мне: «Ты должен вернуться к Екатерине Максимовне. Я здесь не одна». Пошел на занятия. Все время слышалась канонада. Таню вызвала заведующая: «Занятия должны состояться во что бы то ни стало. Ребят нужно занять. Вы сумеете их отвлечь». Моя аудитория была крайне возбуждена. Как же могло быть иначе? Я пытался их отвлечь «Нибелунгами» (по ходу занятий). Пальба не стихала. После занятий я вернулся к Тане. Она уже упаковала мой мешок (с пайком), чтобы я отвез его своей маме. В тяжкой тоске я простился с Таней, чтобы чуть свет отправиться домой.
Меня окликнул грубый голос: «Кто идет?» Я объяснил, кто я и почему хочу вернуться в Петроград. «А ну давай назад!» — голос решительно обрезал меня. Я вернулся и прилег, не раздеваясь, однако уснул.
Нас разбудили какие-то звуки. Похоже было, что крысы бегают по комнате. Я вскочил и подбежал к окну. Утро было серое, сырое, холодное. По канаве, разделявшей поле с капустой от другого поля, бежали красноармейцы, все время припадая к земле. Некоторые из них выскакивали из канавы и хватали кочаны капусты. Вид у них был измученный. Видимо, они очень проголодались. Вслед за ними выскочил заяц, повел своими ушами и юркнул в капусту. Очевидно, скоро в нашей колонии будут белые. На ее территории возможен бой. Нужно было перевести детей в подвал красного здания. Я вышел из нашего домика.
Появилась кучка солдат (не помню — с чем-то белым на фуражках, у некоторых белые кокарды). С необычайной, на мой неопытный взгляд, быстротой на «бровке» холма были прорыты окопы и расставлены пулеметы. Начался обстрел снарядами колонии. В деревянном домике оставаться было невозможно. Таня уже закончила перевод детей, и я, поддерживая ее, помог ей также укрыться в красном здании. А сам наблюдал бой.
поддерживая ее, помог ей также укрыться в красном здании. А сам наблюдал бой.
Красные цепью шли на штурм холма. Их обстреливали из пулеметов. Их ряды редели, но они все шли... Я был поражен контрастом тех красноармейцев, которых видел утром, и этих мужественных бойцов. Потом я узнал, что это были красные курсанты. На территории колонии между двумя деревянными домиками начался рукопашный бой. Артобстрел кончился. Штурм был отбит. На короткое время наступило затишье. Работники колонии подбирали раненых, и красных, и белых; на крыльце дворца лежал курсант со спокойным мужественным лицом, словно из мрамора выточенным. Он был уже мертв. Ко мне подошли два белых офицера, совсем молодых, и стали допрашивать, где «большевики», где «жиды». Я ответил, что здесь нет ни тех, ни других. На меня стали кричать, угрожать. Подошли крестьяне и заступились за меня (хотя они тогда радовались приходу белых). «Ну что вы хотите от него? Факт, что нет». Меня отпустили.
Я зашел в красный дом помочь собрать ребят (т. к. мальчики разбежались по колонии, с девочками было легче — наш интернат был девичий). Когда мы вернулись в свой домик, мы застали его уже занятым белыми. В каком-то недоумении расположились они на полу, оставив постели пустыми (видно, не понимали, где они).
Одна из девочек начала голосить: «Украли! Украли! Мой кошелек!» Солдаты начали переругиваться, требуя признания, кто взял. Но никто не признавался. В это время в домик вошел еще один солдат. Спросили и его. Он выругался, почесал в смущении затылок и протянул кошелек. «А я же не знал, чей он. Думал, все убежали, а тут вот какой срам!»
Все это знающим о «грабармии» покажется неправдоподобным. Не верится и в то, что усталые солдаты легли не на кровати, а на полу, и в то, что были так сконфужены кражей. Ведь даже такой матерый белогвардеец, как В. Шульгин, в своей замечательной книге «1920 год», восхваляя дисциплину Котовского, с отвращением описывал действия деникинцев. И тем не менее я записал то, чему был свидетелем.
Поведение белых в нашем домике нисколько не примирило с ними К. А. Половцеву. Она все повторяла «проклятые ландскнехты».
повторяла «проклятые ландскнехты».
Наши мальчуганы разбрелись по колонии. Скоро стало известно, что они где-то достали порох и устроили взрыв. Помню только, что к заведующей явился белый офицер и предупредил ее, что он будет вынужден принять самые строгие меры. Между тем возобновился обстрел нашего холма. Все снова собрались в красном здании. Помню психологический курьез. Я заметил в руках у одного мальчугана синицу. И я обеспокоился, что ее замучат и, отобрав ее, отпустил на волю. Рвалась шрапнель. И в эту минуту я почувствовал какое-то нравственное облегчение. Это уже не радость «малых добрых дел», а «микроскопических». Стемнело. Первый день кончился.
Вечером я собрал девочек в нашем домике и рассказал им все, что видел и слышал. Мой рассказ был прерван пулеметной стрельбой, где-то очень близко. Видимо, красноармейцы возобновили наступление. Небо было в тучах. Темнело быстро. Что делать с детьми, если бой возобновится на земле колонии? Надо выяснить положение на фронте. Послали меня. Я отправился на Гатчинскую дорогу. Было так темно, что можно было идти с закрытыми глазами с таким же успехом. По дороге топот копыт. Я обратился к невидимым всадникам: «Что означает эта стрельба пулеметов?» Грубый голос: «Твое счастье, что мне некогда, а то ты повис бы на суку!»
Разгоравшееся зарево пожара рассеяло мрак. Я подошел к дворцу. Далекая канонада не стихала. Прудик перед дворцом походил на чашу, наполненную кровью. Зарево покрыло румянцем мраморно-белое лицо курсанта, все еще лежавшего на ступеньках дворца. И лицо казалось ожившим...
курсанта, все еще лежавшего на ступеньках дворца. И лицо казалось ожившим...
На следующий день был созван педагогический совет. Поведение мальчиков внушало тревогу. Муж К. А. Половцевой — хорист Мариинской оперы П. Д. Васильев — произнес страстную речь о необходимости положить конец расхлябанности коммуны. Много неприятного пришлось выслушать А. И. Вукотич. Вдруг лицо ее радостно оживилось. Она вскочила и быстро исчезла. Мы ее не видели больше вплоть до возвращения красноармейцев. Все подошли к окну. Белые отступали. Впереди тянулись обозы с беженцами. Многие ушли пешком. К беженцам примкнули старшие мальчики, и вскоре наши ребята столпились с узелками, чтобы идти в Гатчину. Минута была решительная. С психозом дело иметь трудно. Чем остановить, как удержать? И вот Таня подбежала к всаднику в форме пожарника и спросила его, можно ли отсидеться в красном здании, когда начнется бой за холм. Полковник (помню, это был грузин, но фамилию не запомнил) посмотрел на здание и коротко ответил: «Отсидятся». Тогда Таня обратилась к нему с просьбой, чтобы он скомандовал ребятам всем отправиться в дом. Авторитет военного подействовал, и ребята хлынули в кирпичное здание и поспешили занять места в подвале. Только несколько старших мальчиков, которые первыми присоединились к беженцам, не вернулись. Полковник-грузин понял, что с этой ватагой ребят придется повозиться, пусть уж лучше останутся.
Как и все, укрывшиеся в красном доме, спустились и мы в подвал, где было хранилище овощей. Среди кочанов капусты разместились колонисты. Раздавался странный звук: это младшие ребята, голодные, ели капусту, как зайчата. В набитом укрывшимися подвале было очень душно. Обстрел продолжался. Мы с Таней все же решились подняться в верхний этаж. И, утомленные всем пережитым, уснули. Нас разбудили крики и какой-то непонятный шум. Мы открыли глаза. Стены комнаты отражали зарево пожара. Мы оба выглянули в окно. Горел наш домик, зажженный снарядами.
Спустились вниз. Там собрались учителя, воспитатели, администраторы... Оказывается, что рядом с нашим домиком — сарай с запасами керосина. Ветер дует в сторону сарая, если и он загорится, то при ветре пожар может распространиться на все деревянные здания колонии. Не мне судить теперь, насколько опасность была велика. Но вот беда: из-за событий этих дней никто не подумал о необходимости снабдить колонию водой. Чем же тушить пожары?
водой. Чем же тушить пожары?
Нужно было кому-нибудь, двоим-троим из нас, пойти в водокачку и накачать необходимое количество воды. К сожалению, мужчин оставалось мало здесь, в красном домике. Часть ушла в Гатчину, часть укрывалась неведомо где. Вызвались идти я и инженер колонии Плинер. Идти было опасно, т. к. обстрел продолжался, а водокачка была довольно далеко. Ко мне подошла Таня и тихо сказала: «Где ты, Кай, там и я, твоя Кайя». По выражению ее лица я понял, что она не откажется от своего решения. Вызвалась еще одна учительница, Мария Митрофановна Хренникова. И мы вчетвером отправились. Пройдя гатчинскую дорогу, мы начали спускаться вниз по склону холма, покрытому деревьями. Водокачка находилась внизу, в домике между нашим холмом и кряжем, на котором была расположена деревня Антропшино. Красноармейцам удалось ее удержать. Когда мы затопили печь, Плинер сказал, что нужно завесить окна, т. к. освещенное окно может вызвать обстрел водокачки. Мы сняли наши пальто и кое-как затемнили помещение. Через некоторое время Плинер начал волноваться: «Когда водокачка заработает, раздастся звук, который могут принять за танк белых, и нашу водокачку сейчас же разнесут из Антропшина». Слух, что у белых танки (первые танки!) разнесся по колонии. Малочисленность отряда, идущего мимо нас брать Петроград, объяснялась тем, что сзади идут страшные неведомые танки. Мы все четверо сидели в нерешительности. Наконец Плинер встал и сказал: надо гасить, ничего путного из этого не будет, колонию снабдить водой не удастся, водокачку разнесут. Мы загасили печь и, обескураженные, двинулись в обратный путь.
Пожар еще не кончился, и мы были освещены его пламенем. Плинер опять заметил: «Ведь нас могут принять за разведчиков красных, поскольку мы пробираемся со стороны Антропшина». И действительно, из-за кустов белые открыли огонь. Мы прижались к земле; пальба приостановилась. Через несколько минут мы поползли. Когда приблизились к Гатчинской дороге, Плинер прошептал: «Может быть, потому не стреляют, что решили подождать, когда мы встанем, тогда попросту дадут залп, и с нами покончат». Ну вот, пора вставать. Мы поднялись. Все было тихо. И мы вновь пошли по ярко освещенному полю. Разбудили меня рано. Одна учительница сказала мне: «В эту ночь многие не выдержали духоты и сырости подвала. Но перевести в лазарет даже самых маленьких ребят невозможно. С утра усилился обстрел колонии. Мы решили просить вас, кроме вас, никто не может выполнить такого поручения. Нужно ехать в штаб белых и уговорить начальника принять меры, чтобы дать возмож ность перевести ребят в другое место, менее опасное. Только с вами там станут разговаривать». Таня снова решила ехать со мной. Вез нас этот раз не тот бородач, что боялся повешенной вороны. Я даже запомнил его фамилию: Куприн. Куприн поехал неохотно: гатчинская дорога, по ней отступали белые, была под усиленным обстрелом. Едва мы выехали из нашей деревни, как поняли новую опасность. Из Антропшина, где держались красноармейцы, дорогу обстреливали из пулеметов. Лошадь наша шарахнулась: тонкая березка, как подкошенная косой, упала на дорогу...
В штабе нас привели к полковнику — это был тот самый грузин, который ответил Тане: «Отсидятся». Он холодно спросил меня, что нам надо. Я объяснил ему, в каком тяжелом положении дети. Нельзя ли договориться, чтобы устроить перерыв для эвакуации детей в более безопасное место. «Хорошо, допустим, что мы перестанем отстреливаться, но ведь наступление ведут красные. Как же мы можем их уговорить?» — «Я не военный, никогда не был даже на военной службе, но я не понимаю, как можно оставить детей в таком положении! Детский дом должен быть приравнен к лазарету под красным крестом». —«Ну, успокойтесь, я ручаюсь, что к вечеру ваша колония будет уже вне обстрела». — «Как вас понять, господин полковник, кто же отступит?» Грузин вспылил, ударил кулаком по столу и закричал: «Молчать! Да вы, я вижу, большевик». («Вы», еще «вы»!). Я, видя, что его оскорбил, извинился и еще раз напомнил ему, что я совершенно не военный человек. «Оно и видно»,—сказал грузин презрительно. Но успокоился. «Вот дурак, что с него взять!» — верно, подумал, он и, успокоившись, сказал: «А вашим ребятам к вечеру мы пришлем муки, сахара, масла. Ведь колония ваша без подвоза уже несколько дней». На этом мы расстались и отправились в обратный путь с обрадованным Куприным.
Полковник сказал правду: к вечеру обстрел кончился. Белые ушли. Бой за холм кончился. Они поняли, что удержать его не в силах. Радостной толпой выбежали ребята из душного заключения. Для них красный дом был тюрьмой. Колония ждала возвращения Красной Армии. Первыми пришли курсанты. В этот момент я сидел в комнате В. К. Станюковича. Кто-то постучал в окно. Меня вызвали. Несколько курсантов повели меня во дворец: «Не залегли ли где-нибудь белые?» Курсанты просили меня показать могилу убитых товарищей в парке. «Много ли полегло наших?» — спросили меня. Я мог только коротко ответить: «Много». — «А белых?» — «Их меньше». Ведь курсанты шли на штурм, а белые окопались и встретили их пулеметами. Я говорил о жертвах наступления на территории колонии. Вероятно, на гатчинской дороге белых легло больше. Обстрел был сильный. Я спросил, - можно ли пройти в город проведать мать. Мне ответили, что можно. Однако товарищи-учителя меня не соглашались
отпустить: «Вы интеллигент, возвращаетесь из колонии, оккупированной белыми. Вы подозрительны. Вас сейчас могут задержать. А здесь, в колонии, все знают, как вы себя вели, и сумеют вас защитить». Решено было отпустить Таню. С ней послали продукты маме и из какого-то фонда выдали плитку шоколада: «Это мы вас премируем за услуги, оказанные колонии», — сказали шутя.
«Это мы вас премируем за услуги, оказанные колонии», — сказали шутя.
Таня надела мешок на спину и тронулась в путь. Я пошел проводить ее. Она спустилась с холма. Ее тонкая фигурка становилась все меньше. Но вот я увидел вдалеке конный отряд, ехавший ей навстречу, и до моего слуха донеслась какая-то заунывная дикая песня. Ко мне приближался отряд башкирской конницы. Темнело, и мгла поглотила удаляющуюся Таню. Падал снег большими хлопьями и белым саваном покрыл землю, напоенную русской кровью.
Кстати, знаменитое красное здание Ольгинского приюта трудолюбия и детской коммуны было построено вместе с дворцом Юлии Павловны Самойловой. На первом этаже размещалась конюшня графини с шорной мастерской, на втором этаже жила прислуга. В центральной части фасада здания размещались часы. После революции Ольгинский приют стал называться детским интернатом, а в красном доме размещались девочки. Перед войной здесь находилась колония для осуждённых детей чиновников, а после войны - ИТК-25. Девочек в красном доме сменили осужденные женщины. В комнатах разместили трёхярусные кровати, что позволяло содержать в этом маленьком здании до 500 женщин.
В одноэтажном деревянном домике рядом распологалось детское отделение (что-то вроде детского дома для детей родившихся в местах заключения). Число таких отделений доходило до пяти.
В колонии разрешались трёхдневные свидания с близкими родственниками в результате чего и появлялись дети.
появлялись дети.
Около автобусной остановки ещё сохранились деревянные бараки в которых отбывали срок мужчины. Осужденные работали на предприятии, получали зарплату, на которую могли купить в магазине не только продукты питания, но и промтовары, чтоб затем передать приехавшим жёнам. В колонии работала каменная баня и прачечная, кирпич которой используют сейчас местные жители. В 1953 году после знаменитой амнистии в честь смерти Сталина колония перестала существовать. В красном доме стали жить работники ВИРа. Затем на первом этаже разместился клуб посёлка Динамо. Сейчас подростково-молодёжный клуб "Павловчанин".
Использовались электронные ресурсы:
- 1.ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОЛЬГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ ТРУДОЛЮБИЯ, СОСТОЯЩИЙ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ (В ЦАРСКОЙ СЛАВЯНКЕ)
- http://www.encspb.ru/article.php?kod=2853438162
- 2. Анциферов Н. П. Из дум о былом : Воспоминания - М.: Феникс: Культур. инициатива, 1992.
- http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pages96a3-2.html?Key=16522&page=323